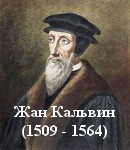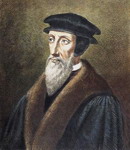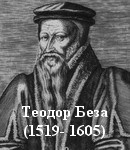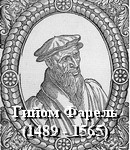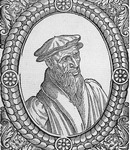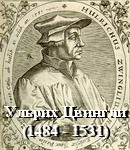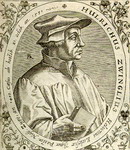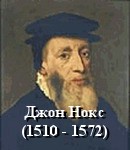КОММЕНТАРИИ
на Евангелие от Иоанна
Глава 18
До сих пор евангелист Иоанн мало сообщает нам о жизни Христа. Ограничивался он только тем, что требовалось для ведения Его бесед. Теперь же, когда Господу Иисусу настало время умирать, он приступает к очень подробному изложению обстоятельств Его страданий. Причем некоторые из них не упоминаются другими евангелистами, особенно Его изречения. И вот пришел час, когда Вождю нашего спасения надлежало вступить в схватку с врагом. Здесь мы видим, как Он идет навстречу страданиям.
18.1 «Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его». В своем рассказе Иоанн пропускает многое, повествуемое у других евангелистов, и делает это сознательно. Его намерением было написать лишь то, о чем умолчали другие. «Сказав сие». Здесь указывается на то, что Господь Иисус взялся за завершение Своего служения на земле. Служением священника было учить, молиться и жертвоприношения совершать. Окончив поучения и помолившись, Он приступает к делу искупления. Он сказал всё, что должен был сказать как пророк. И теперь Он обращается к исполнению Своего священнического служения, чтобы принести душу Свою в жертву умилостивления. К этому событию Он приготовил Своих учеников посредством проповеди и Себя посредством молитвы. Он мужественно вышел вперед навстречу ему. Господь, как смелый воин, первым вступает в сражение. Закончив проповедь и помолившись Своей молитвой, Он не пожелал терять времени. Он вышел из дома, из города при свете луны (Пасху праздновали в полнолуние). Он бросил вызов противнику только после того, как облачился в Свои доспехи, а не раньше. На путях исполнения нашего долга Он сделает и для нас все необходимые приготовления. «Иисус вышел с учениками Своими». Иуда Искариот знал, в каком доме в этом городе находится Христос. И Он мог бы оставаться на месте, и встретить Свои страдания, не выходя из дома. Однако, когда пришел Его час, Он пожелал поступить по Своему обыкновению и не изменять Своих привычек. Независимо от того, встретится Ему при этом страдание или нет. Когда Он оказывался в Иерусалиме, Его обычаем было в конце дня, проведенного в служении народу, уходить на ночь на гору Елеонскую. Следуя Своему обычаю и не желая отказываться от него из-за предстоящих Ему страданий, Он поступил так, как это делал и прежде. Во-вторых, Он не желал, чтобы произошло возмущение в народе. Если бы Его схватили в городе, а сделать это бесшумно не удалось бы, то могли бы начаться беспорядки и пролилось бы немало крови. И поэтому Он удалился из города. Когда мы оказываемся втянутыми в какое-нибудь неприятное дело, нам следует избегать втягивать в него и других вместе с собой. «За поток Кедрон». Чтобы прийти на гору Елеонскую, нужно было перейти этот поток. Писание часто упоминает о долине и потоке Кедрон (напр., царь Давид переходил через этот поток, когда бежал от своего сына Авессалома). Место это представляло собой низкую и затемненную долину. Некоторые толковники считают, что раз Иоанн упоминает об этом, то за этим скрывается нечто значительное. Упоминание Иоанна указывает нам на пророчество Давида относительно Мессии. Пс.109.7 «Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу». Этот поток назывался Кедрон или Черный поток то ли из-за темной долины, через которую он протекал, то ли из-за цвета воды, испорченной городскими нечистотами. Гора Елеонская, где начались страдания Христа, лежала на восток от Иерусалима, а гора Голгофа, где они завершились, на запад. «Где был сад». Есть толкование, которое может не соответствовать действительности. Оно объясняет, почему страдания Христа начались в саду. В саду Едемском был совершен первый грех. Там же было высказано проклятие и дано обетование об Искупителе. И поэтому именно в саду это обетованное Семя вступило в схватку с древним змеем. И погребен Христос был также в саду. «В который вошел Сам и ученики Его». С Ним были ученики, потому что Он обычно брал их с Собой, когда удалялся для молитвы. Они должны были стать свидетелями Его страданий и проявленного в них Им терпения. Чтобы с большей уверенностью проповедовать их миру и самим быть готовыми страдать. Он намеренно подверг их испытанию с тем, чтобы показать им, как они немощны. После того, как Его схватят, они разбегутся, несмотря на данные ими обещания верности. Христос иногда для того ставит Свой народ в трудные обстоятельства, чтобы затем возвеличиться в его избавлении от них.
18.2 «Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими». Иуда Искариот, Его предатель, знал это место. Знал, что это было его обычным местом уединения. И, вероятно, из какого-нибудь слова, оброненного Христом, узнал о том, что Он намеревался быть там в эту ночь. Уединенный сад – подходящее место для размышления и молитвы. И время после Пасхи – подходящее время для уединения в целях личного общения с Богом. То обстоятельство, что Иуда знал это место, упоминается здесь с той целью, чтобы усугубить грех Иуды, заключавшийся в том, что он решил предать своего Учителя, невзирая на свое близкое знакомство с Ним. Хотя Христос знал, где будет предатель Его искать, тем не менее, Он пошел туда, чтобы быть найденным им. Т.к. Господь знал, что пришел час Его. Он показал Свою готовность пострадать и умереть за нас. То, что Он делал, Он делал не по принуждению, а добровольно, чтобы жертва Его была принята Богом. Ведь без Его послушания не было бы нашего искупления. Покорив страх перед смертью, Он без колебаний идет ей на встречу.
18.3 «Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием». «Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев». То, что Иуду сопровождали воины и столько служителей, говорит о его прожженной совести, которая всегда боится и трепещет без причины. Иуда Искариот приходит в сад со своими людьми, посланными первосвященниками и, прежде всего, с находящимися среди них фарисеями. Ап. Иоанн отдельно упоминает здесь фарисеев, бесновавшихся сильнее других. Евангелист Иоанн обходит молчанием борение Христа в саду, потому что другие три евангелиста подробно описали его. И он начинает свое повествование с прихода Иуды и его скопища с намерением схватить Христа. Обратим внимание на то, какие люди были заняты в этом мероприятии – отряд воинов и служителей от первосвященников и Иуда. Против Христа выступило множество людей: отряд воинов – когорта, римский полк, который насчитывал пятьсот человек по мнению одних, и тысячу – по мнению других. Друзья Христа были малочисленны, а Его враги – многочисленны. Это была разношерстная толпа: отряд воинов состоял из язычников, римских солдат, расквартированных в крепости Антония для того, чтобы обуздывать город. Сюда входили и служители или слуги от первосвященников, которые были иудеями. И те и другие были враждебно настроены по отношению друг к другу. Однако это не помешало им объединить свои усилия против Христа. Это была уполномоченная группа людей, а не взбунтовавшаяся толпа. Эти люди получили приказ от первосвященников. А по их донесению правителю (в котором сообщалось, что этот Иисус был опасным человеком), они, по-видимому, также получили и его распоряжение об аресте Христа, ибо боялись народа. Итак, против Христа объединились духовная и гражданская власти. Предводительствовал всеми Иуда Искариот – он взял этот отряд. Вероятно, попросил о нем, ссылаясь на необходимость надежного подкрепления. Он считал большой честью для себя идти во главе грозного отряда. «Приходит туда с фонарями и светильниками и оружием». В случае если бы Христос попытался скрыться, они (хотя полная луна сопутствовала им) воспользовались бы своими светильниками. Фактически они вполне могли бы оставить их на своем месте – Господь Иисус не собирался скрываться, Он добровольно шел на жертвенную смерть. В случае если бы Он попытался оказать сопротивление, они применили бы оружие. Они не хотели учитывать, что оружием Его брани было духовное оружие.
18.4 «Иисус же, зная всё, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете?» Господь Иисус с честью отразил первый натиск врага. Он принял их с такой мягкостью по отношению к ним и с таким внутренним спокойствием, какие только можно себе вообразить. Он встретил их самым что ни на есть мягким вопросом. «Иисус же, зная всё, что с Ним будет, вышел». Господь нисколько не удивился всей этой тревоге. Он с отвагой и присутствием духа вышел им на встречу. Он не только знал, что с Ним будет, но связал Себя обещанием всё это претерпеть. Если у нас нет такой силы, какая была у Христа, чтобы перенести предсказание того, что нас ожидает впереди, то нам и не следует стремиться узнать это. Т.к. предвидение принесет нам преждевременные страдания. Вообще мы должны настроить себя на страдания. Это принесет нам пользу, когда они наступят. Мы тогда сможем сказать: «Это всего лишь то, что мы и ожидали». Мы здесь тоже видим готовность Христа к страданиям. Он не побежал от них, а вышел к ним навстречу. И протянул руку, чтобы взять эту горькую чашу. Когда народ силой попытался сделать из Него царя, Он удалился и скрылся от них (Ин.6. 15). Когда же за Ним пришли, чтобы отвести Его на крест, Он Сам передал Себя им. Ибо Он приходил в этот мир для того, чтобы пострадать. Это не дает нам права без необходимости ставить себя под удар, ибо мы не знаем, когда придет наш час. Но когда не находится никакого иного способа избежать страданий, кроме греховного, то мы призваны страдать. «И сказал им: кого ищете?» Он как бы безучастно, кротко спросил: «Кого вы ищете? В чем дело? Что означает эта ночная суматоха?»
18.5 «Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и Иуда, предатель Его». Вероятно, что многие воины этой римской когорты и, по крайней мере, служители храма часто ходили увидеть Его. Хотя бы с той целью, чтобы удовлетворить свое любопытство. И уж, во всяком случае, Иуда хорошо знал Его и, тем не менее, никто из них не мог сказать: «Ты есть Тот, Которого мы ищем». Этим самым Он показал им, как бессмысленно было с их стороны брать с собой светильники, чтобы разглядеть Его. Ибо Он мог сделать так, чтобы видя Его, не узнали, Кто это. Этим Он показал нам, как легко Он может расстраивать планы Своих врагов и приводить их в замешательство, когда они хотят причинить Ему зло. Они искали Христа под именем Иисуса из Назарета, т.к. знали Его только под таким титулом. И, вероятно, именно так Он был назван в приказе о задержании. Это удивительное прозвище было дано Ему с целью затмить очевидность того, что Он – Мессия. Ясно, что его гонители не знали, откуда Он, ибо если бы они знали это, то, можем предположить, не преследовали бы Его. Он прямо отвечает им: «Это Я». Он не воспользовался преимуществом Своим против них, как, напр., сделал это пророк Елисей против сириян, сказав им: «Это не та дорога и не тот город». Напротив, Он использует это обстоятельство как возможность показать Свою готовность пострадать. Хотя они и назвали Его Иисусом из Назарета, тем не менее, Он отозвался на это имя, ибо пренебрег посрамлением. Он мог бы сказать: «Это не Я». Ибо Он был Иисусом из Вифлеема, но Он никак не хотел прибегать к уклончивому ответу. Этим Он учит нас признавать Его перед людьми, чего бы нам это ни стоило. Особо отмечается (отдельной фразой), что стоял с ними и Иуда. Его бывший ученик теперь стоял во главе Его врагов. Это характеризует отступника: им является тот, кто переходит на другую сторону. Упоминание об Иуде сделано здесь с той целью, чтобы, во-первых, показать бесстыдство Иуды. Можно только подивиться тому, где он набрался такой дерзости, с какой теперь взирал на своего Учителя. Несомненно, в этом ему помог сатана, вошедший в его сердце. Во-вторых, показать, что сила, вышедшая со словами «Это Я», была, в частности, направлена против Иуды.
18.6 «И когда сказал им: «это Я», они отступили назад и пали на землю». Иоанн подчеркивает, что Христос с готовностью пошел на смерть. Одновременно он рассказывает, какая сила содержалась в одном лишь звуке Его голоса. Чтобы мы знали: нечестивые могут делать с Ним лишь то, что Он им позволяет. Мы видим, как Он устрашил Своих противников и вынудил их отступить. Они отступили назад, как бы пораженные внезапным ударом грома. Т.о., даже тогда, когда Христа попирали, Он явил Себя, что был более чем простой человек. Слова «Это Я» привели Его учеников в чувство и придали им храбрости (Мф.14.27). И эти же слова сразили наповал его врагов. Этим Он ясно показал, что Он мог бы сделать с ними. Он заставил их упасть, хотя мог бы сразить насмерть. Он поверг их Своим словом на землю, но мог бы тем же самым словом отправить их кратчайшим путем в ад, как было со скопищем Корея. Но Он не захотел это сделать, потому что пришел час Его страданий, и Он не хотел отменять его. Он желал повиноваться Отцу, по установлению Которого, как Он знал, надлежало Ему умереть. Он хотел только показать, что Его жизнь не отбиралась у Него силой, но Он Сам отдавал ее, как сказал. Он хотел показать пример терпения по отношению к худшим из людей, и пример сострадающей любви даже к собственным врагам. Повергнув их на землю, но не более, Он таким образом призвал их к покаянию, и дал им возможность для этого. Однако сердца их были ожесточены, и всё оказалось напрасно. Этим Он ясно показал, что Он, в конце концов, сделает со всеми Своими непримиримыми врагами, если они не вразумятся, чтобы воздать Ему славу. Они падут перед Ним. Кроме того, отсюда можно вывести, сколь ужасным и страшным будет для нечестивых голос Христа, когда Он вернется для суда над миром. В этот момент Он стоял как агнец, готовый к закланию. Его величие не было заметно во внешнем виде. И всё же одним словом Он бросает наземь вооруженных врагов. Что же будет, когда Он придет не для того, чтобы быть судимым людьми, но для суда над живыми и мертвыми?
18.7 «Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назорея». Здесь видно, что такое слепота, которой Бог поражает умы нечестивых. И сколь ужасно их оцепенение, когда по праведному суду Божию их очаровывает сатана. Увидев божественную силу, явленную через Христа (упали от Его слов), они действуют так спокойно, словно не узрели в Нем даже человека. Даже Иуда никак не был этим затронут. Господь снова подвергает Себя ярости врагов. Они не долго лежали на том месте, где упали, но вновь поднялись по дозволению Божьему. Они с таким же рвением, как и прежде, желают схватить Его. Они не могут вообразить, что с ними случилось, почему они не смогли удержать равновесие. Они готовы приписать это чему угодно, только не силе Христа. Есть сердца, настолько ожесточившиеся в грехе, что уже ничто не действует на них, они неисправимы. Господь так же, как и прежде, готов к тому, чтобы Его схватили. Когда они упали перед Ним, Он не стал их оскорблять. Но Он считал Своим долгом задать им тот же самый вопрос: «кого ищете?» А они дали Ему тот же самый ответ. Повторяя Свой вопрос, Он, по-видимому, желал коснуться их совести: «Неужели вы не знаете, Кого ищете? Неужели вы не сознаете своего заблуждения?» Давайте научимся бояться суда Божия, по которому нечестивые, преданные в руки сатаны, глупеют больше, чем бессловесный скот. Итак, не подлежит сомнению, что это сатана толкал их к столь глупому бесстрашию. Ибо нечестивые, преданные превратному уму, восстают на Бога так, будто имеют дело с обычной мухой. Они ощущают Божью силу, но не склоняются перед ней. Их злоба для них словно покрывало, мешающее взирать на божественный свет.
18.8 «Иисус отвечал: Я сказал вам, что это Я; итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут». Христос ограждает Своих учеников от ярости врагов. Он использует Свое преимущество против них в целях защиты Своих учеников. В то же время Он проявляет мужество в отношении Себя Самого в словах: «Я сказал вам, что это Я». Слова «оставьте их, пусть идут» были повелением, а не заключением договора с врагами. Он указывает им, как власть имеющий. Эти слова означают: «если вы будете приставать к ним, это будет на погибель вам». Господь тем самым намеревался явить Свое нежное попечение о Своих учениках. Ставя Себя под удар, Он позволяет им уйти от Него, потому что они еще не были готовы принять страдания. Их вера была слабой, в них не было высокого духа. Заставить их страдать сейчас означало бы заплатить слишком дорого – цену их души. И им предстояло еще совершить труд. Сейчас они должны были уйти, чтобы потом пойти по всему миру и проповедовать Евангелие. Христос ободряет нас в следовании за Ним. Хотя он и предопределил нам страдания, тем не менее, Он принимает во внимание наш состав. Он мудро определяет время, когда возложить на нас крест и соразмеряет его с нашими силами. Здесь же Он дает нам добрый пример любви к нашим братьям и заботы об их благополучии. Мы не должны заботиться о покое и безопасности только для себя, но в равной мере должны считаться с покоем и безопасностью других людей. И здесь же Господь хотел дать образец Своего поручительства как Посредника. Отдавая Себя на страдания и смерть, Он делал это для того, чтобы мы, Его последователи, в вечности избежали того и другого. Поэтому не будем сомневаться: всякий раз, когда на нас нападают бесы и нечестивые, Он окажет нам ту же самую помощь.
18.9 «Да сбудется слово, реченное Им: из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого». Этим самым Он подтвердил слова, сказанные Им незадолго перед этим (Ин.17.12 «Из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого»). Исполнив это слово в частности, Христос дал гарантию того, что оно исполнено будет и в общем, причем не только в жизни тех, кто теперь был с Ним, но и в жизни всех верующих по слову их. Хотя под соблюдением их Христос, главным образом, понимал сохранение их душ от греха и отступления, тем не менее, здесь этот текст следует понимать и в смысле сохранения их физической жизни. И это очень верное понимание, ибо даже тело наше является предметом заботы и попечения Христа. Христос сохраняет физическую жизнь ради того служения, для которого она предназначена здесь на земле. Она отдается Ему, чтобы быть употребленной для Него. И Он не останется без ее служения, но возвеличится в ней, будь то в жизни или в смерти. Она будет продолжаться до тех пор, пока будет приносить хотя какую-нибудь пользу. Свидетели Христа не умрут до тех пор, пока не окончат своего свидетельства. Однако это еще не всё. Сохранение учеников было по своей сути духовным сохранением. Сейчас они были такими слабыми в вере и такими нерешительными, что, услышав призыв пострадать в данный момент, они, по всей вероятности, посрамили бы самих себя и своего Учителя. А некоторые из них, наиболее слабые, и вовсе погибли бы. Поэтому, чтобы не погубить никого, Он не хотел ставить их под удар. Сохранность и безопасность детей Божьих обеспечиваются не только тем, что Божественная благодать дарует силу, соответственную испытанию, но и тем, что Божественное провидение посылает испытание по силам. Поскольку Христос не хотел, чтобы они искушались сверх данных от Него сил, Он избавляет их задержания. Т.о., можем сказать: хотя Христос испытывает нашу веру многими способами, но Он никогда не позволяет нам пасть, Он одновременно дает силу к преодолению этих испытаний. Он видит, когда мы еще не способны к битве и еще не созрели. Кроме того, Он никогда не ведет Своих людей в бой, предварительно их не подготовив. Так что, даже погибая здесь на земле, они не погибнут для неба, ибо и жизнь и смерть для них приобретение.
18.10 «Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо; имя рабу тому было Малх». Здесь мы находим опрометчивость Петра. У них было два меча на всех (Лк.22.38) и он, которому был вверен один из них, извлек его. Он решил, что настало время воспользоваться им. Он ударил первосвященнического раба, который, вероятно проявлял чрезмерную активность. Петр, по-видимому, стремился рассечь ему голову, но промахнулся и только отсек ему правое ухо. Для большей убедительности рассказа указывается имя раба. Мы должны признать, что у Петра было доброе намерение. В нем пробудилась искренняя ревность к своему Учителю. Не так давно он пообещал положить жизнь свою за Него, и теперь ему хотелось доказать верность данному им слову. Вероятно, вид Иуды, возглавлявшего эту банду, возмутил его. Можем удивляться тому, что он не направил меч на голову предателя. Хотя доброе намерение Петра извиняло его поступок, тем не менее, оно его не оправдывало. Он не получал от своего Учителя разрешения сделать то, что он сделал. Он воспротивился страданиям своего Учителя, хотя уже получил за это упрек. (Тогда он сказал: «Будь милостив к Себе, Господи!»). И это несмотря на то, что Христос говорил ему, что Ему должно пострадать. И что Он пострадает, и что ныне пришел час Его. Казалось бы, он воинствовал за Христа, а в действительности он выступал против Него. Петр помешал той капитуляции, которую его Учитель только что объявил Своим врагам. Когда Он сказал: «оставьте их, пусть идут», Он таким образом не только позаботился об их безопасности, но и гарантировал их благонравие, что они должны мирно разойтись. Петр слышал это и, однако же, не подчинился сказанному. Он безрассудно навлек на себя самого и на других учеников гнев этой толпы. Если бы вместо уха он отсек Малху голову, то, можно предположить, воины набросились бы на всех учеников и изрубили бы их в куски. А Христа изобразили бы в глазах общественности ничем не лучше Вараввы. Мы должны признать, что всем управляло Божье провидение. Оно направило удар меча Петра так, чтобы не причинить большего вреда, чем отсечение уха. А также дало Христу возможность явить Свое могущество и благость в исцелении увечья (Лк.22.51). В результате то, что грозило обратиться в укор Христу, послужило поводом для прославления Его даже в окружении Его врагов.
18.11 «Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны; неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?» « Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны». Обеспечив безопасность Своих учеников, Он порицает опрометчивость Петра. И подавляет гнев Своих учеников, как перед этим отразил ярость Своих гонителей. В лице Петра Христос осудил всё, что люди делают по собственному усмотрению. Очень распространено под предлогом рвения оправдывать свои поступки. Словно нет разницы: одобряет ли Бог то, что люди считают правильным. Так что пример Петра учит нас усмирять свое рвение. Ибо наше рвение обратится во зло всякий раз, когда мы решимся на что-то без дозволения Слова Божьего. Итак, пусть основанием наших поступков будет послушание. Надо усердно молить Господа, чтобы Он правил нашими поступками Духом Своей премудрости (Святым Духом). Христос не усугубил проступка Петра, а только повелел ему не делать того больше. Некоторые считают, что если они находятся в горе или несчастье, то это может извинить их горячность и опрометчивость в отношениях с окружающими. Однако Христос подает нам пример того, как можно с кротостью переносить страдания. Петру надлежало вложить меч в ножны, ибо ему будет вскоре вручен меч духовный. Немного времени спустя он сразил насмерть этим мечом Ананию и Сапфиру. «Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?». Это является основанием для запрета Петру. Евангелист Матфей приводит иное основание для данного Христом запрета. Но Иоанн оставляет то, которое упустил Матфей, и в котором Христос дает нам: 1. Доказательство Своей полной покорности воле Отца. Если Христу было определено пострадать и умереть, то противление этому со стороны Петра, словом или делом, было проявлением надменности. Слова Христа свидетельствуют об определенной решимости и о том, что Он не допускал даже мысли об обратном. Он был готов пить эту чашу, несмотря на то, что она была чашей с горьким напитком. Он пил ее для того, чтобы нам вручить чашу спасения, чашу утешения, чашу благословения. 2. Прекрасный образец того, как нам следует покоряться воле Божьей во всем, что касается нас. Т.к. это чаша дается нам, из этого следует, что страдания суть дары. Она дается нам Отцом Небесным, Который не поступит с нами неправильно, Который любит нас с любовью Отца и не причинит нам вреда.
18.12 «Тогда воины и тысяченачальник и служители иудейские взяли Иисуса, и связали Его». «Тогда воины … взяли Иисуса». Совершенно примирившись с Божьим промыслом, Он спокойно сдался в их руки и сделался их узником. Не потому, что не мог избежать уз, а потому, что не желал этого делать. Казалось бы, исцеление уха Малха должно было подействовать на них, однако ничто не могло повлиять на них. Они взяли Иисуса. Лишь немногие наложили на Него руки, но вина за это легла на всех. Ибо все они помогали и содействовали в этом деле. Так исполнилось Писание: Пс.21.13 «Множество тельцов обступили меня». Пс.117. 12 «Окружили меня, как пчелы». Им так часто не удавалось схватить Его, что теперь, когда Он оказался в их руках, Они, по-видимому, набросились на Него с тем большей жестокостью. «И связали Его». Только евангелист Иоанн отмечает эту деталь Его страданий. Как только Он был взят, Его связали, связали руки и надели наручники. По преданию (смотри Gerhard Harm cap. 5) «Его связали с такой жестокостью, что с кончиков Его пальцев сочилась кровь, а связав Ему сзади руки, набросили на шею Ему железную цепь и потащили Его за нее». Это показывает, какими злобными были Его гонители. Они связали Его для того: 1. Чтобы причинить Ему боль. 2. Чтобы обесчестить и опозорить Его. Вязать было принято рабов. Так поступили и с Христом, хотя Он был свободнорожденным. 3. Чтобы предотвратить Его побег, т.к. Иуда Искариот велел им крепко держать Его. Обратим внимание на их безрассудство: они помыслили связать Человека, Который только что показал Свое всемогущество. 4. Они связали Его как уже осужденного, ибо они были полны решимости приговорить Его к смерти. И были уверены в том, что Он умрет смертью злодея, руки которого связывают. Может показаться абсурдным, что Христос, ранее ниспровергший врагов одним словом, теперь разрешает Себя связать. Если Он хотел предать Себя врагам, зачем было производить такое чудо? Однако явление божественной силы было полезным в двух отношениях. Оно устранило соблазн, чтобы мы не думали, будто Он уступил из-за немощи. Кроме того, оно доказало, что Он добровольно покорился смерти. Насколько было полезным, Христос явил Свою силу по отношению к врагам, но там, где надо было покориться Отцу, Он сдержался и сделал Себя жертвой.
Узы, наложенные на Христа, полны большого значения. Как и многое другое в Его жизни, они заключали в себе тайну. (1) Прежде, чем они связали Его, Он Сам Себя связал, приняв дело и служение Посредника. Он уже был привязан к рогам жертвенника вервями Своей любви к человеческому роду и Своего долга перед Отцом. Иначе их веревки не удержали бы Его. (2) Мы «содержались в узах собственных беззаконий» (Прит.5.22) и несли на себе «ярмо беззаконий наших» (Плач 1.14). Вина – оковы души, которыми мы окованы до суда Божьего. Наша ветхая природа – тоже оковы души, в которых мы содержимся под властью сатаны. Сделавшись грехом за нас, чтобы освободить нас от этих оков, Христос Сам дал связать Себя за нас. В противном случае мы были бы связаны по рукам и ногам и содержались бы в узах мрака. Его узам мы обязаны нашей свободой. Его заключение в них было нашим освобождением. (3) В этом исполнились прообразы и пророчества Ветхого Завета. Исаак был связан, чтобы быть принесенным в жертву. Иосиф был связан для того, чтобы он мог выйти из темницы и стать вторым человеком после фараона в Египте. Самсон был связан для того, чтобы при смерти своей умертвить филистимлян более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. И о Мессии было предсказано, что Он будет узником. Ис.53.8 «От уз и суда Он был взят». (4) Он был связан для того, чтобы связать нас долгом послушника. Его узы обязывают нас навсегда любить Его и служить Ему. (5) Узы Его за нас предназначены для того, чтобы облегчить наши узы за Него, чтобы освятить их и сделать сладостными.
18.13 «И отвели Его сперва к Анне; ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником». В стихах 13-27 описывается расследование дела Христа на суде у первосвященника и некоторые связанные с ним обстоятельства, выпущенные из рассмотрения другими евангелистами. А также отречение Петра, историю которого другие евангелисты изложили в виде отдельного рассказа. Здесь она тесно переплетается с описанием других событий. Т.к. преступление, в котором Он обвинялся, имело отношение к религии, то судьи духовного судилища расценили его как относящееся непосредственно к их юрисдикции. Т.к. Христос был схвачен как иудеями, так и язычниками, потому и иудеи, и язычники расследовали Его дело и вынесли Ему приговор. Ибо Он умер за грехи как тех, так и других. Рассмотрим эту историю в том порядке, в котором она излагается. «И отвели Его сперва к Анне». Другие евангелисты умалчивают об этом, поскольку это событие не слишком меняет смысл происходящего. Прежде чем представить Его на суд под председательством Каиафы, они отвели Его сперва к Анне. Они вели Его с триумфом, как трофей своей победы, вели, как ведут овцу на заклание. И провели через Овечьи ворота, о которых говорится в Неем.3.1. Ибо через них вела дорога с Елеонской горы в Иерусалим. Они отвели Его к своим господам, пославшим их. Было уже около полуночи, и следовало ожидать, что они посадят Его под стражу. Отведут в какую-нибудь темницу до предусмотренного законом времени созыва суда. Однако они поспешно отвели Его к судьям. Но не к судьям мировым, чтобы передать Его на их рассмотрение, а к тем судьям, которые должны были нечестиво осудить Его. Это расследование совершалось с такой стремительностью отчасти потому, что они опасались Его насильственного освобождения. И не только не хотели оставлять времени для этого, но и старались воспрепятствовать этому путем запугивания. А отчасти потому, что жаждали Его крови. Вероятно, дом Анны находился на пути, которым они шли. И им удобно было зайти в него, чтобы передохнуть и, как считают некоторые, получить плату за службу. Есть точка зрения, что Анна был стар и болен и, тем не менее, желал видеть схваченного Христа. «Ибо он был тесть Каиафе». Эта родственная связь между ними объясняет либо то, почему Каиафа удостоил Анну чести первым увидеть узника Христа, либо то, почему Анна охотно поддержал Каиафу в том деле, которым так сильно было занято его сердце. Анна их долго не задерживал, поскольку он тоже желал скорейшего начала судебного процесса. И потому отослал Его связанного к Каиафе (об этом сообщается в стихе 24). Либо в его дом, где была назначена по этому поводу встреча членов синедриона, либо в обычное место в храме, где первосвященник производил свой суд. «Который был на тот год первосвященником». Евангелист не имеет в виду, что служение первосвященника продолжалось один год, о чем многие ложно думают. Он хочет сказать, что Каиафа именно в то время служил первосвященником, что явствует также из писаний иудейского историка 1-го века Иосифа Флавия. Служение первосвященника по закону было пожизненным. Однако в то время, благодаря недостойным проискам честолюбивых людей, смена на этой должности происходила так часто, что она стала почти годовой. Итак, самомнение и раздоры привели к тому, что римские начальники, свергая одного первосвященника, по своему усмотрению назначали другого, угодного им или дававшего деньги. Так Вителлий сверг Каиафу, предшественником которого был Ионафас, сын Анны. На погибель себе Каиафа был первосвященником в тот самый год, когда должен был быть предан смерти Мессия. Это означает, что, когда, по плану Божьему, должно было совершиться нечестивое дело рукой первосвященника, Бог распорядился таким образом, чтобы на этот момент в этой должности оказался нечестивец.
18.14 «Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ». Иоанн повторяет пророческие слова Каиафы, которые он сказал незадолго перед этим. Ин.11.49-50 «Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: … лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Умер, будь он виновен или невиновен, прав или неправ. Эти слова упоминаются тем, чтобы показать, каким нечестивым человеком был этот Каиафа. Он и в личной жизни, и в церковных вопросах руководствовался не принципами справедливости, а законами политики. Т.о., мы видим, что дело Христа было предрешено еще до того, как было заслушано. И они уже твердо знали, как с Ним следовало поступать – Он должен умереть. Суд над Ним затевался лишь как посмешище. Т.о., враги Евангелия Христа твердо решают всеми правдами и неправдами уничтожить Его. Это есть свидетельство о невинности Господа Иисуса, прозвучавшее из уст одного из Его злейших врагов. Который открыто заявил, что Он приносится в жертву благополучия общества. И что Его смерть продиктована отнюдь не требованием справедливости, а лишь тем, что «лучше». Анна разделил общую вину в судебном преследовании Христа вместе со служителями, связавшими Его без суда и милости. Ибо он одобрил эти действия, оставив Его связанным. В то время как ему следовало дать приказ развязать Его, поскольку Он не был признан виновным ни в каком преступлении. Да и попытка бежать с Его стороны замечено не было. Если мы не делаем того, что в наших силах, для исправления того, что наделали другие, то в таком случае мы становимся соучастниками преступления.
18.15 «За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик; ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом в первосвященнический двор». Мы можем заметить привязанность Петра по отношению к Христу. Он последовал за Ним, когда Его вели. Ап. Иоанн несколько раз называет себя в этом Евангелии другим учеником. Поэтому многие толкователи склонились к необоснованному выводу о том, что этим другим учеником был Иоанн. Следствием этого явились многочисленные предположения о том, каким образом он стал известен первосвященнику. Одни сторонники этого варианта дают объяснение, что он продал свое имение первосвященнику, а другие предполагают, что он его семью продовольствовал рыбой. Но оба эти предположения невероятны. Есть и такие толковники, кто не видит никакого основания считать, что этим другим учеником был ап. Иоанн или один из двенадцати. Ведь у Христа были и другие ученики, принявшие Его учение. Они были не только в толпе простолюдинов, но и при дворах знати, даже при дворе императора Нерона. Возможно, что этим другим учеником был Никодим или Иосиф из Аримафеи, оба известные Каиафе. Но в то же самое время не известные ему как ученики Христа. Итак, этот другой ученик, кто бы он ни был, услужил ап. Петру тем, что ввел его во двор. Он желал тем самым не только удовлетворить его любопытство и вознаградить его привязанность, но и дать ему возможность послужить своему Учителю на суде, если такой случай представится.
18.16 «А Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел, и сказал придвернице, и ввел Петра». Петр с большими затруднениями попадает во двор дома, в котором заседал суд. Когда он не смог проникнуть туда, где находился окруженный врагами Иисус, то «стоял вне дверями», желая быть как можно ближе к Нему. Так и нам следует проявлять доброе расположение к Христу, когда в следовании за Ним сталкиваемся с противодействием. Это следование Петра за Христом, если всё учесть, заслуживало порицания. Потому что Господь, Который знал Его лучше, чем он сам себя, ясно сказал ему: Ин.13.36 «Куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти». И предупреждал его, что он отречется от Него. Мы должны остерегаться искушать Бога, отваживаясь на подвиги, превосходящие наши силы. И рискуя зайти слишком далеко на пути страдания.
18.17 «Тут раба придверница говорит Петру: и ты не из учеников ли этого Человека? Он сказал: нет». Переступив порог, ап. Петр тут же подвергся атаке искушения и был побежден им. А атака-то была слабая. Простая служанка, выполнявшая такую незначительную роль, роль придверницы, заподозрила в нем ученика Христа. Вероятно, по его застенчивому виду и по тому, с какой робостью он вошел во двор. У Петра было бы основание для страха, если бы слуга первосвященника Малх набросился на него словами: «Вот кто отсек мне ухо». Но на вопрос служанки он мог бы без всякого страха ответить: «А что если и так?». Незадолго до этого он выдавал себя за воина, способного победить смерть, теперь же смущается и бросает оружие от одного далеко не грозного слова рабыни. Вот пример человеческой силы. Обратим внимание на то, какой скорой была капитуляция Петра. Он ответил, не тратя времени на то, чтобы собраться с мыслями. Если бы он был смелым, то ответил бы: «Это честь для меня, что я являюсь им». Или если бы он был мудрым, то промолчал бы на этот раз, ибо это было злое время. Но поскольку все его заботы были сосредоточены на собственной безопасности, то он решил, что не сможет обеспечить ее иначе, как только путем решительного заявления: «нет». Кажется, это не прямое отречение от Христа. Но Петр, испугавшись признать себя Его учеником, как бы отрицает, что имеет с ним что-либо общее. На это надо обращать внимание, чтобы кто-то не пытался действовать по-софистски. И не думал, что избежит ответственности, если только косвенно отойдет от веры.
18.18 «Между тем рабы и служители, разведши огонь, потому что было холодно, стояли и грелись; Петр также стоял с ними и грелся». Петр примкнул к рабам и служителям и стал, как один из них. С его стороны уже скверно было и то, что он не сопровождал своего Учителя и не выступал в Его защиту в том месте, где теперь расследовалось Его дело. Он мог бы выступить на суде в качестве Его свидетеля и противостать лжесвидетелям, если бы его Учитель призвал его к этому. По крайней мере, он мог бы стать свидетелем происходящего, чтобы заметить все подробности и потом передать об этом другим ученикам. Ни один из учеников не был в состоянии попасть на слушание дела Христа. Он также мог бы на примере своего Учителя научиться тому, как следует держаться, когда наступит и его очередь пострадать таким образом. Однако ни его совесть, ни его любопытство не смогли заставить его прийти на суд. Он оставался сидеть у костра, как если бы нимало не беспокоился об этом. Но мы имеем основание полагать, что его сердце было исполнено такой скорбью и такой глубокой озабоченностью, какие только могли в него вместиться. Но у него не было мужества признать это. Еще хуже было то, что он пристал к тем, которые были врагами его Учителя. Желание погреться едва ли извиняло его в том, что он примкнул к ним. Петр заслуживал серьезного порицания, потому что он присоединился к нечестивым людям и поддерживал с ними общение. Для них, несомненно, этот ночной поход был развлечением. Они торжествовали свою победу над Христом. Но что могли дать Петру такие разговоры? Если он говорил то же, что и они, или же молчаливо соглашался с тем, что говорили они, то он участвовал в их грехе. Если же нет, то подвергал себя опасности. Если он не в состоянии был делать доброго, то мог хотя бы уклониться от зла. Петр заслуживал порицания и за то, что он желал, чтобы его приняли за одного из них. Чтобы не заподозрили в нем ученика Христа.
18.19 «Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его». В то время как ап. Петр, ученик Христа, начал отказываться от Него, Его враг Каиафа начинает обвинять Его (стихи 19-21). Вначале духовные руководители Израиля, по-видимому, попытались представить Его обольстителем народа, преподающим ложное учение, о чем и повествует евангелист Иоанн. Когда же эта их попытка не увенчалась успехом, они обвинили Его в богохульстве, о чем сообщают другие евангелисты. И поэтому здесь не упоминается об этом. «Первосвященник же спросил Иисуса». Каиафа спрашивает Господа как какого-то самозванца, который, собирая себе учеников, тем самым раскалывает Церковь. Он спрашивает Его и как лжепророка, пытавшегося исказить чистую веру новыми извращенными учениями. Обратим внимание сначала на нарушение процедуры следствия. Оно совершалось против всякого закона и всякой справедливости. Они арестовывают Его как преступника, и вот теперь, когда Он уже их узник, им нечего предъявить Ему в качестве обвинения – никакой жалобы не было, никакого обвинителя не оказалось. Пришлось самому судье занять место обвинителя, а подсудимому – самому выступить свидетелем по собственному делу. И, вопреки здравому смыслу и требованиям справедливости, Его принуждают быть обвинителем Самого Себя. Обратим внимание и на умысел врагов Господа. Первосвященник, поскольку он уже решил сам в себе, что Христа следует принести в жертву их злобе, под видом заботы об общественном благополучии, стал допрашивать Его по вопросам, касающимся Его жизни. Он допрашивал Его: (1) Об Его учениках, чтобы обвинить Его в подстрекательстве к мятежу и представить Его как человека, представляющего опасность и для Римской империи и для Иудейской церкви. Он спросил Его, кто были Его ученики, сколько их было, откуда они происходили, как их звали и что они из себя представляли. Некоторые толковники полагают, что его вопрос об учениках звучал так: «А что теперь стало со всеми вами? Где они? Почему они не явились?» И что они задали его с целью укорить Христа за их трусость, оставивших Его, и тем самым еще более усугубить Его скорби. (2) Об Его учении, чтобы обвинить Его в ереси и подвести под статью закона о лжепророках (Втор.13.9,10). Они не могли приписать Ему никакое лжеучение, но надеялись на то, что им удастся вытянуть из Него что-либо и извратить это к обвинению Его. Сделать Его преступником за то или иное слово. Они ничего не сказали Ему относительно Его чудес, посредством которых Он сделал столько добра и разбил сомнения относительно истинности Своего учения. Потому что к ним, даже по их убеждению, невозможно было придраться. В отношении Своих учеников Христос не сказал ничего, потому что этот вопрос не имел никакого отношения к делу. Если Его учение было здравым и добрым, то иметь учеников, с целью передачи его, было самым обычным делом, которое практиковалось и дозволялось.
18.20 «Иисус отвечал ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагогах и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего». В отношении Своего учения Христос не сказал ничего конкретно, но сослался на слышавших Его. Он без слов обвиняет Своих судей в противозаконном ведении дела. Его цель – опровергнуть безумную злобу Каиафы. Он не злословит начальствующих в народе Своем. Не говорит им: «Вы нечестивцы». Но апеллирует к установленным правилам их же собственного судопроизводства. Он указывает на тот факт, что они не беспристрастны в обращении с Ним. Он ссылается на то, как честно и открыто обращался с ними, когда возвещал им Свое учение, и этим оправдывает Себя. По закону синедрион должен был расследовать преступления, связанные с распространением опасных учений, тайно обольщающих людей (Втор.13.6). Поэтому Христос полностью оправдывает Себя в отношении этого. Во-первых, что касается стиля Его проповеди – Он говорил открыто и понятно, не так, как это делали, напр., служители некоторых идолов. Желающие исказить истину и распространить извращенные понятия для достижения своей цели прибегают к лукавым внушениям, сеют сомнения, ставят неразрешимые вопросы. И ничего не утверждают определенно. Христос прямо свидетельствовал против пороков того времени. Во-вторых, что касается тех, кому Он проповедовал: Он говорил миру, всем, кто готов был слушать Его. Будь то человек знатный или простой, ученый или невежда, иудей или язычник, друг или враг. Его учение выдерживало критику любой аудитории. И никому не отказывал Он в возможности узнать о нем, но великодушно возвещал его. Подобно солнцу, щедро посылающему свои лучи на каждого. В-третьих, что касается тех мест, в которых Он проповедовал. Во время Своего путешествия по стране Он обычно проповедовал в синагогах. Причем по субботам, во время, отведенное для таких собраний. Когда же Он приходил в Иерусалим, то проповедовал то же самое учение в храме, во время религиозных праздников, когда в нем собрались иудеи со всех концов страны. Он часто проповедовал в частных домах, на горах, на берегу моря, чтобы показать, что Его слово и поклонение не должны ограничиваться храмами и синагогами. Но и в этих случаях учение, которое Он проповедовал частным образом, было тем же самым, с которым Он выступал в религиозных учреждениях. В-четвертых, что касается самого учения. Он тайно не говорил ничего противоположного тому, что говорил открыто. А только повторял и изъяснял уже сказанное. Итак, Он не искал потайных углов, не скрывал Своих убеждений и не говорил ничего того, чего должен был стыдиться. Что Он говорил Своим ученикам наедине, то повелел им возвещать на кровлях (Мф.10.27). Вспомним слова Тертуллиана: (155-200, одни из ранних отцов Церкви) «Истина не боится ничего, кроме скрытности».
!8.21 «Что спрашиваешь Меня? Спроси слышавших, что говорил им; вот, они знают, что Я говорил». Вопрос «Что спрашиваешь Меня?» обнаруживает две нелепости их расследования. Во-первых: «Что спрашиваешь Меня об учении Моем теперь, когда вы уже осудили его?» Они намного раньше приняли решение об отлучении от синагоги всех тех, кто признавал Его (Ин.9.22), и издали распоряжение о Его задержании. И вдруг теперь спрашивают, что представляет собой Его учение. Во-вторых: «Что спрашиваешь Меня?» следует понимать: «Неужели Я должен обвинять Себя Самого, когда у вас нет никаких показаний против Меня?» Он апеллирует к тем, кто Его слышал. И желает, чтобы их допросили относительно проповеданного Им учения. Имело ли оно ту опасную направленность, в которой Его подозревают? Он не имеет в виду Своих друзей и последователей, которые, как можно предположить, стали бы говорить в Его защиту. Но предлагает допросить любого заинтересованного слушателя, в том числе и собственных их служителей. Некоторые считают, что Он указал в их сторону, когда сказал, что они знают, что Он говорил. Имея в виду сделанное ими донесение по поводу Его проповеди (Ин.7.46): «Никогда человек не говорил так, как этот Человек». Более того, можно было бы спросить и самих заседавших в зале суда, ибо кто-то из них, наверняка, слышал Его проповедь.
18.22 «Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику?» Это добавлено с двоякой целью. Во-первых, чтобы мы знали, сколь велика была ярость врагов Христа, и сколь тиранической – их власть. А, во-вторых, какие порядки царили среди священников. Они сидят словно судьи, а между тем творят и допускают беззаконие. Собрано заседание суда, на котором должны царить благоразумие и истина. «Один из служителей … ударил Иисуса по щеке». Один из служителей распустился до того, что во время слушания дела на глазах у судей бьет ни в чем худом не изобличенного обвиняемого. Так что не удивительно, если учение Христа осудили на столь варварском сборище, лишенном не только какой-либо справедливости, но и всякой человечности и стыда. Так исполнилось Писание Ис.50.6: «Я предал … ланиты Мои поражающим» ударам. И еще: Мих.5.1 «Будут бить по ланитам судью Израилева». Бить Того, Кто, по признанию многих, был выдающимся Человеком, было дерзостью со стороны презренного раба. Бить Того, Кто стоял со связанными руками, было подлостью. Бить узника, стоящего перед судом, было жестокостью. Это было нарушение общественного порядка, происходящее прямо на глазах у суда и, тем не менее, судьи этому нисколько не препятствовали. Христос взял на Себя посрамление, которое заслужили мы. «Сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику». Служитель прервал оправдательные слова Господа Иисуса с выражением надменности и высокомерия. Как будто бы благословенный Иисус был недостаточно хорош, чтобы разговаривать с его господином. Или же недостаточно мудр, чтобы знать, как следовало с ним разговаривать. И, подобно грубому и невежественному арестанту, нуждался в тюремщике, который бы следил за его действиями и учил Его тому, как нужно вести себя. Некоторые древние богословы высказывают предположение, что этим служителем был Малх, который был обязан Христу исцелением уха и сохранением головы. И который, несмотря на это, ответил Ему такой злой неблагодарностью. Но кем бы он ни был, это было сделано в угоду первосвященнику. Ради того, чтобы снискать его благоволение. Ибо его поступок показывал его ревнивое отношение к чести и достоинству первосвященника. Нечестивые правители никогда не будут иметь недостатка в нечестивых слугах. Есть и такое мнение, что этот служитель был оскорблен тем, что Христос апеллировал к окружающим Его людям относительно Своего учения, как бы призывая его в свидетели. Возможно, он был одним из тех служителей, которые почтительно отзывались о Нем (Ин.7.46). И, чтобы теперь его не приняли за тайного друга Христа, он выступает как Его непримиримый враг.
18.23 «Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?» Христос перенес это оскорбление с кротостью и терпением. Перефразируем Его слова: «Если Я согрешил, то обвиняй Меня. А разобрав дело, бей за конкретный проступок. Ты поступаешь не по закону». Итак, Христос жалуется: если Он не согрешил, надо действовать без насилия. И, в любом случае, в соответствии с законом. Могут сказать, что здесь Он действует не так, как заповедал в Нагорной проповеди. Он не подставил правую щеку тому, кто ударил Его в левую. От христиан не всегда требуется такое терпение, чтобы получивший удар, молча сносил нанесенное оскорбление. Главное, они должны сохранять спокойствие души и, не думая о мести, стремиться добром победить зло. Сатанинский дух толкает к насилию, когда кто-то их раздражает. Итак, Господь хочет лишь того, чтобы каждый из нас скорее был готов снести вторую обиду, чем отомстить за первую. Следовательно, несправедливо обиженному христианину ничто не мешает требовать правды, лишь бы душа была свободна от гнева и руки – от мести. Нашим отмстителем должен стать судья, если это необходимо для сохранения общественного спокойствия и для обуздания злых делателей. Возмущение, вызванное причиненным нам злом, должно всегда оставаться под контролем разума, а не под влиянием чувств. Именно так вел Себя Господь. Страдая, Он убеждал, а не угрожал.
18.24 «Анна послал Его связанного к первосвященнику Каиафе». Данное предложение надо считать как бы в скобках. Или предложение изложить в такой форме: «Анна ранее послал Его …».
18.25 «Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: не из учеников ли Его и ты? Он отрекся и сказал: нет». В то время как рабы оскорбляли Христа, Петр продолжал отрекаться от Него, повторяет этот грех. «Симон же Петр стоял и грелся». Продолжая оставаться в обществе неподходящих для него людей, с кем у него не было ничего общего, Петр сам себя подвергал искушению. И в этом было его великое безрассудство. Он остался с ними, чтобы погреться, но греющиеся с теми, кто делает зло, охладевают к добрым людям и к добрым делам. А тем, кто любит сидеть у огня дьявола, угрожает дьявольское пламя. Петр мог бы очутиться на скамье подсудимых рядом со своим Учителем, и согреться лучше, нежели здесь. Там он мог согреть себя огнем ревности о своем Учителе и огнем негодования на Его гонителей. Однако он предпочел погреться вместе с ними, чем пламенеть против них. «Тут сказали ему: не из учеников ли Его и ты?» Он снова подвергся атаке искушения, и в этом было его великое несчастье. Да и невозможно было ожидать иного, ибо это место искушения и это был час искушения. Когда судья спросил Христа о Его учениках, тогда, вероятно, слуги приняли Петра за одного из них. И задали ему вопрос: «не из учеников Его и ты?» Другими словами, один из рабов спросил Его: «Что ты здесь делаешь среди нас?» Искуситель старался окончательно низложить Петра, того, кто, как он заметил, начал падать. Поражение в одном искушении открывает дверь для другого искушения, возможно, более сильного. Обычно мы стараемся зарекомендовать себя перед теми, кого выбираем для общения. Мы стремимся казаться правыми в их глазах. Поэтому важно не ошибиться в первоначальном выборе и не связываться с теми, угождая кому, мы не можем угодить Богу. «Он отрекся и сказал: нет». Он проявил большую слабость и, более того, великое нечестие. Он не устоял в этом искушении и сказал: «нет», т.е., я не из Его учеников. Возможно, Петр услышал о том, что Христа допрашивали о Его учениках, и боялся, как бы его не схватили. Или, по меньшей мере, не наказали, как и его Учителя, если он сознается в том, что является Его учеником. Когда Христом восхищались и с почтением относились к Нему, Петру это нравилось. И он, скорее всего, гордился тем, что был учеником Христа. И, т.о., претендовал на часть славы, воздаваемой его Учителю. Многие делают вид, будто заботятся о славе религии, когда она бывает в моде. Но стыдятся ее, когда она оказывается в поругании. Последователи Господа должны принимать ее во всякое время.
18.26 «Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: не я ли видел тебя с Ним в саду?» Петр в третий раз повторяет грех отречения от Господа. Теперь на него наступает один из рабов, который был родственником Малха (которому он отсек ухо). Услышав, как Петр отрицал то, что был учеником Христа, он уверенно изобличает его во лжи: «не я ли видел тебя с Ним в саду?». Т.е., я не сомневаюсь, что это был ты. Свидетель тому – ухо моего родственника. Петр опять отрекся, как если бы он ничего не знал ни о Христе, ни о саде, вообще ни о чем, связанным с этим делом. Эта третья атака искушения была более ожесточенной, нежели первые две: до сих пор его только подозревали в связи с Христом. А теперь она подтверждается устами человека, который видел его с Господом Иисусом. Те, кто думает выйти из затруднительного положения при помощи греха, приводят себя этим только в еще большее затруднение. Родство этого раба с Малхом упоминается потому, что это обстоятельство вселило в Петра еще больший ужас. Он мог размышлять так: «Теперь я пропал, моя песенка спета, нет нужды ни в каких других свидетелях». Если возможно с нашей стороны, не следует делать своим врагом ни одного конкретного человека, ибо может настать такое время, когда мы можем оказаться во власти либо его самого, либо кого-то из его родственников. Обратим внимание на следующее. Хотя против Петра и была выставлена достаточно сильная улика и, хотя его отречение не спасло бы его от того, чтобы возбудить против него судебное дело, тем не менее, он выходит из положения, не потерпев никакого вреда. И даже никакой попытки причинять ему вред не было. Нас порой вводят в грех беспочвенные, беспричинные страхи, для которых нет никакого повода. И которые легко могут быть рассеяны даже небольшой мудростью и решительностью. Полагаем, что Петра в этом случае спасла Божья рука.
18.27 «Петр опять отрекся; и тотчас запел петух». Вспомним, какая природа греха вообще: Евр.3.13 «Сердце ожесточается, обольстившись грехом». До какой необыкновенной степени бесстыдства так неожиданного дошел Петр, что смог с такой уверенностью лгать о том, что так легко можно было опровергнуть. Когда преграда, Божья защита разрушена, люди легко переходят от плохого к худшему. Грех лжи – это плодовитый грех, и поэтому крайне грешный. Одна ложь порождает другую, утверждающую первую, а та – следующую ложь. В политике дьявола есть такое правило: «Покрывать грех грехом, чтобы таким образом избежать разоблачения». Намек, данный Петру с целью разбудить его совесть, был своевременным и подходящим: «и тотчас запел петух». Это всё, что здесь сказано о его покаянии, т.к. оно подробно описано другими евангелистами. Пение петуха привело его в себя, напомнив ему слова Христа. Христос заботится о Своих, несмотря на их неразумные поступки. Хотя они и падают, но не впадают в отчаяние. Он не отвергает их совсем. Для остальных пение петуха было случайным явлением, не имевшим никакого значения, но для Петра это был голос Божий, имевший блаженную цель – пробудить его совесть, приведя на память ему слова Христа.
18.28 «От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху». «От Каиафы повели Иисуса в преторию». Здесь мы находим описание того, как Христос был представлен перед Пилатом, римским наместником. Они привели Его в преторию (Латинское слово praetorium обозначает «шатер военачальника». Римляне называли преторией как дом прокуратора, так и трибунал, где обычно происходил суд). Они привели Его туда, чтобы добиться Его осуждения римским судом и наказания римской властью. Имея намерение предать Его смерти, они предприняли такой ход с тем, чтобы легче осуществить это. Осуществить более законным и официальным путем, в соответствии с действующей конституцией их правительства, поскольку их земля сделалась провинцией Римской империи. Не так, как был побит камнями первый мученик за веру в Христа Стефан, не во время народного мятежа, а с соблюдением всех тогдашних норм и правил судебного расследования. Они хотели осуществить это с наибольшей безопасностью для себя. Если бы им удалось втянуть в это дело римское правительство, которого народ боялся, то это уменьшило бы вероятность мятежа. Они хотели казнить Христа с наибольшим позором для Него. Смерть на кресте, которую обычно практиковали римляне, была самой позорной из всех видов казни. И они рассчитывали с ее помощью оставить на Христе несмываемое пятно позора и навеки очернить Его репутацию. Вот почему они настаивали: «Распни Его». Они хотели предать Его смерти с наименьшим позором для них самих. Предать смерти Человека, сделавшего столько добра в этом мире, было делом возмутительным. Поэтому они хотели отвести от себя негодования народа и направить его в адрес римского правительства. Чтобы сделать его еще более ненавистным для народа, а себя уберечь от обвинений. Так, многие не столько страшатся греха в своем поступке, сколько позора, связанного с ним. «Было утро». Полагают, что было утро, когда большинство людей еще спали, что уменьшало опасность сопротивления со стороны приверженцев Христа. В то же самое время они повсюду разослали своих агентов, чтобы они собрали тех, кого можно было бы заставить бросать выкрики против Него. Теперь, когда Он уже был в их руках, они не желали терять ни минуты, отказывали себе в самом необходимом отдыхе. И стремились как можно скорее достичь своей цели – вознесения Его на крест. Некоторые полагают, что на этот факт есть пророческое предсказание: Михей 2.1 «Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила». «И они не вошли в преторию, …». Мы видим их суеверие и отвратительное лицемерие. Хотя первосвященник и старейшины пришли вместе со своим узником, чтобы осуществить свое дело наиболее эффективно, тем не менее, они не вошли в преторию, потому что она была домом необрезанного язычника. Чтобы не оскверниться и можно было есть пасху, они остались за порогом. Имеется в виду не пасхальный агнец (его съедали в эту ночь), а пасхальная трапеза, состоявшая из жертв, которые приносились в 15-й день. Это были пасхальные тельцы, о которых говорится во Втор.16.2, 2Пар.30.24, 35.8,9. Им надлежало есть их, поэтому они не пожелали входить в здание суда из-за боязни соприкоснуться с язычником и этим оскверниться (согласно их преданиям, а не обрядовому закону). На это они решиться не смогли, зато не постеснялись попрать все законы справедливости, предавая Христа на смерть. Они хотели угодить Богу, не навлекая грязь прикосновением к нечистому, но забыли при этом об истинной чистоте. Господь заповедал иудеям обрядовые законы именно с той целью, чтобы они привыкли любить святость и усердно к ней стремиться. Заметим, что нигде в законе не запрещено входить в дом язычника. Данная предосторожность была введена отцами. Т.о., они и в данном случае предпочитали человеческие предания заповедям Божьим. Нечистоту они видели только внутри стен претории, а не в своих сердцах, ибо перед лицом Бога неба и земли предавали смерти невинного Человека.
18.29 «Пилат вышел к ним и сказал: в чем обвиняете Человека сего?» Вначале их призвали для того, чтобы выяснить, в чем они обвиняют Христа. Это правильно было: судья требует предъявить обвинительный акт. Поскольку они не пожелали войти в зал суда, Пилат сам вышел к ним из дома, чтобы поговорить с ними. Отдавая должное Пилату как судье, отметим здесь еще три положительных качества. (1) Его добросовестное отношение к делу. Если бы это было по доброму поводу, то его готовность встать в ранний утренний час и занять свое судейское место была бы весьма похвальной. (2) Его уважительное отношение к нравам народа и готовность оставить свое почетное место. Он мог бы сказать «Если они не удосужились войти ко мне, пусть отправляются туда, откуда пришли». Но Пилат не настаивает на этом, проявляет терпимость и выходит к ним. (3) Его приверженность принципам справедливого суда. Он требует предъявить обвинение, подозревая, что оно было злонамеренным.
18.30 «Они сказали ему в ответ: если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе». Косвенно они жалуются Пилату, что он не вполне доверяет честности их. Почему ты не считаешь несомненным, что человек, которого мы преследуем, достоин смерти? Вот как нечестивцы, вознесенные Богом на высшие должности, ослеплены своим блеском и позволяют себе всё. Они хотят считать Христа виновным только потому, что они Его обвиняют. Однако если перейти к фактам, какое злодеяние Он совершил, исцеляя больных, изгоняя бесов, возвращая слепым зрение, глухим слух, а мертвым – жизнь? Дело обстояло именно так, и они об этом знали. Но нет ничего труднее, чем пробудить совесть опьяненных гордыней людей, чтобы они судили здраво и беспристрастно. Обвинители требуют вынести Ему приговор на основании общего предположения о том, что Он преступник, не приводя при этом никакого основания. И, тем более, никакого конкретного доказательства того, что Он достоин смерти или уз. Пилат задал им самый разумный вопрос, какой только можно было задать. Однако они ответили на него с таким презрением, как если бы он был самым нелепым. Они очередной раз показали свою злобу и недоброжелательство по отношению к Господу Иисусу Христу: прав Он или не прав – они считают Его злодеем и обращаются с Ним как с таковым. И это Его они называют злодеем, Того, Кто творил только добро.
18.31 «Пилат сказал им: возьмите Его вы и по закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого». «Пилат сказал им: … Его». Пилат отсылает Его им обратно на рассмотрение их собственного суда. Одни полагают, что Пилат польстил им этим заявлением, признав за ними оставшуюся в их руках власть, и позволив им употребить ее. Они имели право налагать такое телесное наказание, как, напр., бичевание в их синагогах. «Меня не тревожьте с этим делом», сказал Пилат. Он сказал так потому, что не хотел делать того, о чем иудеи просили его. Другие считают, что он посмеялся над ними, намекнул на их зависимое положение. Им хотелось быть единственными судьями, способными устанавливать виновность. Перефразируем слова Пилата: «Продолжайте начатое вами дело. Вы признали Его виновным по вашему закону, так и судите Его по нему, если вы на это отваживаетесь. Продолжайте играть комедию». Кое-кто высказывает мнение о том, что он здесь бросает тень на закон Моисея, как если бы их закон разрешал то, чего никогда не разрешил бы римский закон. Это – осудить человека без всякого преступления. «Иудеи сказали ему: …». Они отказываются от какой бы то ни было судебной власти, и соглашаются только с ролью обвинителей. Они уже ведут себя менее нагло и более покорно, и признают: «Нам не позволено предать смерти никого. Мы можем налагать любое меньшее наказание, но это такой злодей, что мы хотим Его крови. Если мы это сделаем, против нас сразу же восстанет толпа». Другие думают, что эта власть была отнята от них римлянами, потому что они злоупотребляли ею. Или же потому, что предоставление ее покоренному, но в то же время народу непокорному считалось излишним доверием. Признавая этот факт, они намеревались сделать Пилату комплимент. Их признание доказывало, что «отошел скипетр от Иуды» и, следовательно, действительно пришел Мессия (Быт.49.10). Но в этом был промысел Божий, чтобы они либо не имели власти предавать кого бы то ни было смерти, либо отказались от употребления ее в данном случае. Да сбудется слово Господа (смотри ст.32!).
18.32 «Да сбудется слово Иисуса, которое сказал Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет». Даже те, кто стремился искоренить слова Христа, вопреки своему желанию содействовали их исполнению, т.к. ими управляла рука Божья. Никакое слово Бога не останется не исполнившимся. В частности, исполнились те слова Христа, которые Он сказал о Своей смерти. Отказавшись судить Его по закону своему, иудеи содействовали исполнению двух изречений Христа относительно Его смерти. Во-первых, исполнились Его слова о том, что предадут Его язычникам и что осудят Его на смерть (Мф.20.19, Мк.10.33, Лк.18. 32,33). Во-вторых, Он сказал, что Его распнут (Мф.20.19, 26.2) и что Ему должно вознесену быть (Ин.3.14, 12.32). Если бы они по закону своему судили Его, то Он был бы побит камнями. Иудеи применяли иногда в своей судебной практике такие меры, как сожжение, удушение и обезглавливание, но распятие – никогда. Поэтому было необходимо, что Христа казнили римляне, чтобы, будучи «повешен на дереве, Он сделался за нас клятвою» (Гал3.13). И чтобы «пронзили руки Его и ноги Его». В свое время римские власти содействовали тому, что Он родился в Вифлееме, а теперь они содействовали Его крестной смерти. Причем то и другое соответствовало Писаниям. Итак, Сын Божий стоит перед судилищем смертного человека. Если мы думаем, что это происходит по человеческому желанию и не возносим очи ввысь к Богу, наша вера с необходимостью смутится. Но если мы знаем, что приговор Христу упразднил наш приговор перед Богом, поскольку Небесному Отцу было угодно так примирить с Собой человеческий род, то мы станем хвалиться позором Христовым. Итак, научимся же в каждый момент этой истории обращать наш помысел к Богу, автору нашего искупления.
18.33 «Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь Иудейский?» Вероятно, было сказано и многое другое, о чем евангелист Иоанн умалчивает. И что можно вывести из рассказов других священнописателей. Но Иоанн больше всего настаивает на следующем: Пилат усердно размышлял, справедливо ли Христос был привлечен к суду? «Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса». Закончив совещание со старейшинами у входа, Пилат снова вошел в преторию и потребовал, чтобы к нему привели Иисуса. Целью его было освободить Христа. Сам же Христос, дабы быть послушным Отцу, согласен подвергнуться осуждению. И здесь кроется причина, почему Он столь немногословен в Своих ответах. Имея перед собой милостивого судью, охотно к Нему прислушивающегося, Христос мог бы легко защитить Свое дело. Но Он думает о том, зачем пришел в этот мир и к чему призывает сейчас Его Отец. Поэтому Он добровольно молчит, не пытаясь избежать смерти. Пилат не хотел допрашивать Его принародно, думая, что выкрики из народа будут мешать ему. Для того Пилат вошел в суд с Христом, чтобы Бог никогда не входил в суд с нами. «И сказал Ему: Ты Царь Иудейский?» Пилат никогда бы не задал вопрос о царстве, если бы иудеи не обвинили Христа в этом преступлении. И он поднимает этот самый острый для присутствующих вопрос, чтобы, разрешив его, полностью оправдать невиновного. Согласно сообщению других евангелистов, Его обвинители вменяли в преступление Ему то, что Он «развращает народ и запрещает давать подать кесарю». На основании этого обвинения Его и допрашивают. Вопрос Пилата: «Ты Царь Иудейский?» толковники понимают так: «Ты тот Царь Иудейский, о Котором так много говорили и Которого так долго ждали, Князь Мессия? Ты ли это? Или Ты только претендуешь на то, чтобы быть Им?» Пилат был равно далек как от того, чтобы считать Его действительным Мессией, так и от того, чтобы сомневаться в этом. Т.к. никто не мог доказать, что Христос говорил это, то, полагают, Пилат хотел принудить его заявить это теперь. И осудить Его на основании Его собственного признания.
18.34 «Иисус отвечал Ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе обо Мне?» Христос отвечает на этот вопрос другим вопросом. Не с тем, чтобы уклониться от ответа, а с тем, чтобы побудить Пилата к размышлению о том, что Он делал, и на каком основании. «От себя ли ты говоришь это?» Ты своими подозрениями руководствуешься? Должность обязывала Пилата заботиться об интересах римского правительства, однако он не мог сказать, что оно было в опасности. Или потерпело какой-то ущерб от чего-нибудь сделанного или сказанного Господом Иисусом. Он никогда не окружал Себя мирским величием, никогда не претендовал ни на какую гражданскую власть. Никогда Его ранее не обвиняли ни в каких бунтарских настроениях или действиях. Ни в чем таком, что могло бы навести на Него хоть малейшую тень подозрения. «Или другие сказали тебе обо Мне?» Если же другие сказали тебе обо Мне, чтобы возбудить тебя против Меня, то тебе следовало бы рассмотреть, кто они такие, какие принципы движут ими. И не являются ли они сами, представляющие Меня врагом кесарю, истинными его врагами? Не используют ли они данную ситуацию только как предлог, чтобы скрыть свою злобу? Если это действительно так, то судье, желающему вершить правосудие, следовало бы хорошо это взвесить. Если бы Пилат исследовал это дело должным образом, то он обнаружил бы, что причина враждебности первосвященников по отношении к Господу заключалась и в том, что Он не учреждал временного царства для свержения римского владычества. Если бы Он сделал это с целью избавить евреев от римского рабства, то они не объединялись бы с римлянами против Него. Но, напротив, сделали бы Его своим царем и сражались бы во главе с Ним против них.
18.35 «Пилат отвечал: разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне. Что Ты сделал?» Пилат воспринимает ответ Христа с чувством обиды. (1) Христос спрашивал его, говорил ли он от себя. Он говорит: «Разве я иудей, что Ты подозреваешь меня в заговоре против Тебя? Я ничего не знаю о Мессии и не хочу знать. Меня не интересует спор о том, кто является Мессией». Обратим внимание на то, с какой надменностью Пилат спрашивает: «Разве я иудей?» Иудеи, по отзывам многих, были народом славным. Но т.к. они разрушили завет со своим Богом, то Он сделал их презренными и униженными перед народами. Так что человек здравомыслящий и порядочный считал для себя позором быть причисленным к иудеям. (2) Христос спрашивал Пилата, не сказали ли ему о том другие. Пилат говорит: «Твой народ, который, казалось бы, должен быть на Твоей стороне, обвиняет Тебя. В т.ч. и первосвященники, чье свидетельство следовало бы уважать. И потому мне ничего больше не остается, как только действовать на основании их показаний». Так и в наши дни Христос страдает от исповедующих свое родство с Ним, но не живущих соответственно своему исповеданию. (3) Христос уклонился от ответа на вопрос: «Ты Царь иудейский?» Поэтому Пилат ставит Ему другой, более общий вопрос: «Что Ты сделал? Чем Ты вызвал у Твоего народа, и в особенности у священников, такую ярость? Ведь дыма без огня не бывает».
8.36 «Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда». «Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего». Этим высказыванием Христос дает более полный и прямой ответ Пилату на его предыдущий вопрос: «Ты Царь иудейский?» Он признается в том, что Он Царь. Но одновременно для доказательства Своей невиновности Он опровергает возводимую клевету. Он отрицает, что Его Царство противоречит общественному порядку. Поэтому у Пилата нет причин подозревать Его во властолюбивых желаниях. Он объясняет ему, в каком именно смысле можно считать Его царем. А именно: не таким царем, чье существование таило в себе опасность для римского правительства. Не земным царем, ибо Его интересы не поддерживались никакими земными методами. Характеристика природы и устройства Царства Христа: оно не от мира сего. Оно есть Царство Небесное. Итак, Христос подтверждает, что Он – Царь, но Царство Его не от мира сего. И природа Его Царства не такая, как у земных царств: это Царство находится в сердцах людей (Лк.17.21). Охрана и поддержка этого Царства осуществляется не от мира сего, его средства вооружения духовные. Оно никогда не нуждалось в земной силе и никогда не использовало ее для поддержания и укрепления своей мощи. Оно никогда не покушалось на права князей и не претендовало на собственность своих подданных. Оно не ставило своей целью изменить национальные устои в сфере гражданских отношений. И не противопоставляло себя никакому царству, кроме царства греха и сатаны. Устремления и цели Христа, как Царя, не мирские. Он не стремился Сам и не позволял Своим ученикам стремиться к внешней помпезности и власти великих мира сего. Подданные Христа не от мира сего, хотя они и живут в нем. Они суть призванные и избранные из мира. Но они рождены от иного мира и направляются в него. Они не являются ни учениками этого мира, ни его любимцами. Они не руководствуются его мудростью. Ныне же, хотя по виду положение подданных царства Христа несчастно в этом мире, в них всё же пребывает незыблемая радость. Те, кто, будучи обновлен Духом Святым, размышляют о небесной жизни в святости и праведности. «Если бы от мира сего … не был предан иудеям». Приводится доказательство духовной природы Царства Христа и того, что Он не думает о земном царстве. Если бы Он задумал противостать римскому правительству, то сражался бы против него собственным его оружием. И отражал бы натиск его силы силой той же природы. Однако Он не пошел этим путем. Его последователи не подвизались за Него. Не было никакого бунта, ни даже попытки избавить Его. Хотя в настоящий момент в Иерусалиме было много людей из Галилеи. А они были, по большей части, вооруженными. Но Он не только не повелел им подвизаться за Него, но запретил им это делать. Это свидетельствовало как о том, что Он не полагался на земную помощь, так и о том, что Он желал быть преданным иудеям и стать Спасителем мира. Он заключает, что хотя Его Царство и в мире, тем не менее, оно не от мира. Невежественно и плохо поступают те, кто из данного стиха делает вывод: Евангельское учение и чистое богопочитание не следует защищать с помощью оружия, поскольку Христос тогда не потребовал Себе защиты. Христос говорит лишь о том, что клевета на Него иудеев необоснованна. Кроме того, если благочестивые цари продвигают Царство Христово с помощью меча, это происходит не так, как обычно защищают земные царства. Ибо Царство Христово, будучи духовным, должно основываться на учении и силе Святого Духа. И так же происходит его созидание. Ни законы людей, ни налагаемые наказания не доходят до людской совести. Но это не мешает князьям в нужные моменты защищать Христово Царство. Частично они делают это, устанавливая внешнюю дисциплину, частично – защищая Церковь от нечестивых. Но извращенность мира приводит к тому, что Царство Христово больше утверждается кровью мучеников, чем силой оружия.
18.37 «Пилат сказал Ему: итак, Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего». «Итак, Ты Царь?» На следующие расспросы Пилата Христос дает еще более прямолинейный ответ. Здесь мы имеем недвусмысленный вопрос Пилата. Расширим его слова: «Ты говоришь о некоем царстве, которое принадлежит Тебе, так, значит, Ты в том или ином смысле Царь? А чем подтверждено такое Твое притязание? Объяснись». «Ты говоришь … истине». Во-первых, Он признает Себя Царем, хотя не в том смысле, в каком понимал Пилат. Мессию ожидали в образе царя, князя-Мессии. Поэтому, признав перед Каиафой, что Он Христос, Он не пожелал отречься перед Пилатом в том, что Он Царь. Чтобы не показалось, будто Он противоречит Сам Себе. Хотя Христос и принял образ раба, тем не менее, даже и тогда Он справедливо претендовал на почести и власть царя. Во-вторых, Он объясняет и показывает, в каком смысле Он является Царем – как пришедший в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Он правит в умах людей силой истины. Если бы Он хотел провозгласить Себя земным царем, то сказал бы: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы управлять народами, одерживать победы над царями и завоевывать царства». Но Он говорит, что пришел, чтобы быть свидетелем перед Богом, сотворившим мир. И свидетелем против греха, разрушающего мир. И этим словом свидетельства Своего Он учреждает и сохраняет Свое Царство. О Нем было предсказано, что Он будет свидетелем для народов и, как таковой, вождем и наставником народам (Ис.55.4). Царство Христа не от мира сего, в котором не стало истины (Ис.59.15). В нашем мире господствует правило: «Кто не умеет лицемерить, тот не может и управлять». Он от того мира, в котором истина правит вечно. Задача Христа в этом мире и Его дело заключалось в том, чтобы свидетельствовать об истине. Это означает: открыть и утвердить ее. Своими чудесами Он свидетельствовал об истине божественного откровения, Божьих совершенств и провидения, об истине Его обетования и завета. Чтобы все люди уверовали через Него. Действуя таким образом, Он являет Себя как Царь и утверждает Свое Царство. Божественная истина является основанием, силой и духом Царства Христа. Он покоряет убеждающей очевидностью истины, управляет силой истины. По истине Своей Он будет судить народы (Пс.95.13). Она есть скипетр Его Царства. Подданными Его Царства станут те, которые расположены принять истину и покориться ее власти и действию. Одновременно они избавляются от власти «отца лжи» (сатаны). Они услышат голос Христа, станут Его подданными, уверуют в Него и принесут Ему истинную преданность. Всякий, кто имеет верное представление об истинном Боге, принимают религию Христа. «Всякий, кто от истины, слушает гласа Моего». Все, любящие истину, слушают голос Христа. Ибо нигде нельзя отыскать истины более великие и прекрасные, как только во Христе. Ибо через Него произошли благодать и истина. Он добавляет это для защиты Своего учения от клеветы. Он как бы говорит: «Меня винят в том, что Я провозглашаю Себя Царем. Однако это – несомненная истина, которую безоговорочно принимают все, наделенные здравым разумением». Происходящим же от истины Он завет не тех, кто любит ее по природе, но тех, кем правит Божий Дух.
18.38 «Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем». Пилат задает Христу хороший вопрос, но ответа на него не ждет. Этот вопрос не мог быть поставлен никому другому, кто мог бы лучше ответить на него. Истина есть та самая драгоценная жемчужина, которую желает найти человеческий разум. Ибо ничто не может удовлетворить его, кроме истины. Или, по крайней мере, того, что принимается им за истину. Многие задают вопрос «Что есть истина?», но не имеют достаточно терпения и постоянства для настойчивого поиска истины. Или достаточного смирения и искренности для ее принятия тогда, когда она бывает найдена ими. Точно так многие обращаются и со своей совестью. Они задают себе такие нужные вопросы, как, напр.: «Кто я? Что я сделал?», но не желают найти время, чтобы выслушать ответ. Не ясно, с каким намерением Пилат задал этот вопрос. Возможно, он хотел получить информацию о том, какие новые понятия выдвинул Христос в религии. Но в то время как он желал услышать какую-нибудь новую истину от Него (подобно Ироду, желавшему увидеть какое-нибудь чудо), крики возмущения священников и толпы, стоявших у его ворот, вынудили его внезапно прервать этот разговор. Из того, что Пилат сразу же вышел, некоторые выводят, что он задал вопрос в раздражительном тоне. Ему не понравилось, что Христос хочет ему открыть истину. «Я никакой вины не нахожу в Нем». Пилат открыто заявил о невиновности Христа. Он предполагает, что между Христом и священниками могло быть какое-то разногласие в вопросах религии. В которых Он с такой же вероятностью может быть прав, с какой и они. Однако Он не совершил никакого преступления. Из этого также становится очевидно, что хотя с Ним и обошлись, как с худшим из злодеев, тем не менее, Он ни в коей мере не заслужил такого обращения с Собой. Это торжественное заявление Пилата имело также целью объяснить смысл и назначение Его смерти: Ему надлежало умереть не за Свои грехи, а сделаться жертвой за наши грехи. Это заявление Пилата также усугубляет тяжесть греха иудеев. По юридическим законам, когда подсудимый подвергся справедливому суду и был оправдан законным судьями уголовного права, тогда его следует читать невиновным. А его обвинителям следует согласиться с решением суда. Хотя Господу Иисусу и был вынесен оправдательный приговор, тем не менее, с Ним по-прежнему обращаются как с преступником и всё так же жаждут Его крови.
18.39 «Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на праздник; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?» Пилат предложил способ, как освободить Христа. И предложил это не священникам (он знал, что они никогда не согласятся на это), а народу. Что это было обращение к народу, явствует из Мф.27.15. Он, вероятно, знал, как простой народ еще совсем недавно шел за Христом, громко провозглашая «осанна». Поэтому он считал, что Христос был любимцем народа и предметом зависти одних только духовных правителей. И не сомневался в том, что люди потребуют освобождения Господа Иисуса. Что, в свою очередь, заградит уста обвинителей, и тогда всё станет на свои места. Он признает их обычай и предлагает отпустить Христа. Но, даже если у Пилата были благие намерения, странно, что он поставил невинного человека на один уровень с отъявленным преступником. Повинуясь голосу совести, он обязан был освободить Его. Однако, руководствуясь мирской мудростью более, нежели принципами справедливости, он старался балансировать между теми и другими, желая угодить всем сторонам. Возможно, он думал, что иудеям будет достаточно, если Христос, отпущенный в качестве преступника, навлечет на Себя вечный позор. Поэтому Пилат выбрал Варавву в напарники Христу, чтобы на его фоне ненависть к Христу утихла. Ведь Варавва был ненавистен жестокостью своих преступлений.
18.40 «Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник». Народ (присутствующие) выступил в качестве Его врага и занял непримиримую позицию по отношению к Нему. Пилат предложил им спокойно сделать свой выбор. А они приняли свое решение в горячности и заявили о нем с криками и шумом, в полной суматохе. Однако те, кто плохо думает о вещах или людях только потому, что их сильно поносят, часто заблуждаются. Какими несмысленными и безрассудными они были, это видно из короткой справки, приводимой здесь в отношении другого кандидата: Варавва (кличка, означающая «сын отца») же был разбойник. Он был нарушитель закона Божьего. Несмотря на это, он удостаивается пощады, а не Тот, Кто порицал гордость, алчность и тиранию священников и старейшин. Хотя Варавва и разбойник, однако, он не лишит их ни седалища Моисеева, ни их традиций, поэтому не имеет значения, кто он. То же, что иудеи предпочли этого человека Христу, произошло по особому божественному провидению. В том, что римский наместник отпускал иудеям на Пасху одного преступника, виден грубый и нетерпимый порок. Это делалось для превознесения святости праздника, но на деле было не чем иным, как гнусной его профанацией. Ведь по свидетельству Писания (Прит.17.15) оправдывающий виновного мерзок перед Богом. Итак, Христу никак не могла угодить такая неправедная милость. Итак, правила богопочитания следует извлекать только из божественных предписаний.